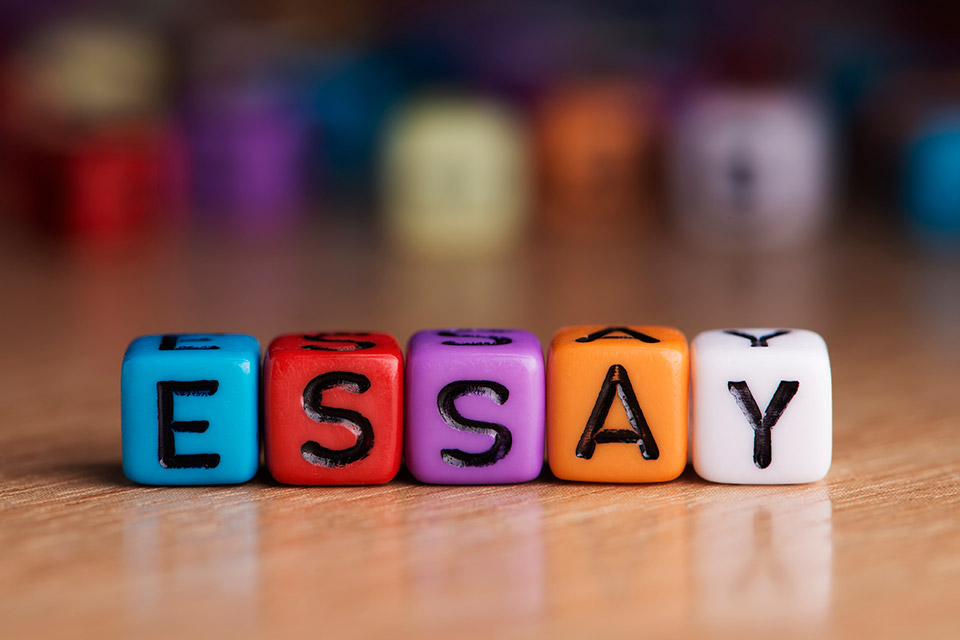Ефимов Михаил Борисович – известный японовед, журналист, многие годы руководивший Бюро АПН в Японии.
Мы попросили М.Б. Ефимова написать для сайта ОРЯ серию коротких эссе о его жизни и творческом пути, а также о Японии. Публикуем сегодня первое эссе.
Об авторе
Родился в Москве в 1929 году. После окончания средней школы поступил в 1947 году в Московский институт Востоковедения на японское отделение, которое закончил с отличием в 1952 году. Был направлен в аспирантуру филологического факультета МГУ имени Ломоносова. В силу разных обстоятельств после окончания срока аспирантуры не смог закончить диссертацию.
В 1956 году поступил на работу в Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР, в котором участвовал в разработке алгоритма машинного перевода с японского языка на русский.
В 1961 году перешёл на работу в Агентство печати «Новости». За тридцать лет работы вплоть до 1991 года прошёл путь от младшего редактора до главного редактора главной редакции информации и главного редактора Издательства АПН.
В 1968-1972 и 1980-1986 годах был руководителем Бюро АПН в Японии, а в 1990-1991 – в Новой Зеландии.
Удостоен нескольких государственных наград, премии Союза Журналистов, имеет звание Заслуженный работник культуры РСФСР. В 2013 году получил Диплом конкурса на Премию Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство» за книгу «Он был слишком прыток. Жизнь и казнь Михаила Кольцова».
После ухода на пенсию (1991 г.) работал в области «паблик рилейшенз»: стал членом Международной Ассоциации ИПРА, возглавлял ряд рекламных агентств и изданий.
В 2003 году завершил работу над диссертацией, которую защитил в Институте востоковедения АН РФ и получил степень кандидата филологических наук. Автор нескольких книг и литературных переводов с японского языка.
ЗАПИСКИ У ИЗГОЛОВЬЯ
ПОДРАЖАНИЕ СЭЙ-СЁНАГОН
С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Начнём AB OVO, как говорили древние римляне. То есть «От яйца». Или точнее — С САМОГО НАЧАЛА.
Впрочем, если быть точным, то таких «яичек» было два.
Для поисков первого из них придётся отправиться в Страну Восходящего Солнца и погрузиться аж в Х век. В то славное время в стольном городе Хэйан, в наш век более известном как Киото, при дворе императора жила удивительная дама, приятная во всех отношениях. Звали её Сэй-сёнагон. Она была очень талантлива и написала книгу, которая вошла в золотой фонд японской литературы. Называлась книга по-японски «Макура-но соси», на русский язык её перевели как «Записки у изголовья».
Дело в том, что японцы испокон веков спали на полу (на циновки-татами стелили матрац-футон), а рядом с подушкой стоял маленький ящик с необходимыми мелочами. В нём писательница и хранила свои записки.
Много веков спустя один из основателей отечественного японоведения академик Николай Конрад так охарактеризовал произведение Сэй-сёнагон: «Это есть, действительно, запись всего, что взбредёт в голову: мыслей, сентенций, воспоминаний, наблюдений, фактов и т.д. По форме это ряд отрывков, иногда довольно длинных, большей же частью очень коротеньких, сводящихся иногда к одной всего фразе».
Сама автор сказала примерно тоже самое: «Мои записки не предназначены для чужих глаз, и потому я буду писать обо всём, что в голову придёт, даже о странном и неприятном».
Прежде чем покинуть красочный Хэйан Х века хотелось бы привести слова переводчицы «Записок у изголовья» со старояпонского языка на современный русский – Веры Марковой (нашей выдающейся современницы, благодаря безмерному таланту которой мы смогли вкусить прелесть японских танка и многих других классических произведений). Запомним эти строки: «Книга Сэй-сёнагон, как и вообще японское искусство не терпит торопливости, бездумного скольжения по поверхности. Творчество и его последующее восприятие, согласно японской эстетике, − нерасторжимое единство. Прекрасное создание искусства как бы ищет того, кто способен к сотворчеству, и лишь перед ним раскрывается до конца».
Этот жанр получил название дзуйхицу, аналог которого назвали на Западе эссе от французского еssаi.
Итак, вспомнив о бессмертном творении Сэй-сёнагон, автор подумал, что дзуйхицу более всего отвечает его замыслу поведать о том, что привело его в японоведение и как это произошло. При этом автор отнюдь не требует от своего читателя добиться нерасторжимого единства.
Теперь пора перейти ко второму «яичку». Для этого не надо будет совершать путешествия в средние века, а достаточно заглянуть в обычную московскую семью, проживавшую в Большом Афанасьевском переулке неподалёку от старого Арбата.
Шли тридцатые годы прошлого века, время было стрёмное, но все были молоды и счастливы.
О докторе Шмуйловиче и фарфоровых чашках
Мы жили в относительно новом восьмиэтажном кирпичном доме на четвёртом этаже. У нас была отдельная двухкомнатная квартира (по тем временам довольно большая редкость). Я был единственным чадом и, как и положено, очень любил папу и маму. Папу за то, что он часто гулял со мной и читал стихи Пушкина и Маяковского. По профессии он был художником и работал дома. Я любил наблюдать, как он рисовал, сидя за большим письменным столом. Маму я, понятно, тоже очень любил, тем более, что она очень вкусно готовила. Но в какой-то момент я заметил, что она стала часто плакать украдкой, а папа перестал рисовать дома, заходил ненадолго, а когда я засыпал, уходил.
Так я узнал, что мои родители разошлись: папа переехал к какой-то тёте, а мы остались вдвоём с мамой. Папа у нас стал «приходящим». Впоследствии он всем объяснял, что он не двоежёнец, а двоесемеец. Мама с этим смирилась, а меня никто не спрашивал.
Я рос, как и все советские дети того времени: ясли, детский сад (в нашем же дворе) и школа в нашем же переулке. Все мои друзья жили в том же доме и всё свободное время мы проводили вместе в нашем дворе. Думаю, что меня отличало от большинства моих сверстников только то, что я постоянно болел. Не было такой хворобы в медицинском справочнике врача-педиатра, которая бы не прицеплялась ко мне. Не удивительно, что самым частым гостем в нашем доме был доктор из детской поликлиники, которого звали Абрам Александрович Шмуйлович. Он был седой, весёлый, невысокого роста, слегка располневший. Точь-в-точь доктор Айболит в моём представлении.
Как-то я услышал разговор родителей, которые советовались, какой сделать подарок доктору ко дню его рождения. После этого мама пошла на Арбат в комиссионку и купила три маленькие кофейный чашечки с блюдечками. Совершенно очевидно, что они были японскими, поскольку их украшали миниатюрные рисунки, словно сошедшие с гравюр Хиросигэ.
Мы втроём вместе с подарком отправились к Шмуйловичам (благо они жили недалеко от нас). Поздравив доктора, мама вручила ему свёрток. Абрам Александрович торжественно развернул его и, разглядывая чашечки, спросил меня:
— Мишенька, тебе наверное жаль отдавать эти красивые вещички?
Я, с детства приученный говорить правду и только правду, не задумываясь сказал: «Очень!».
Шмуйлович долго и заразительно смеялся, а потом аккуратно завернул подарок и вернул моим родителям. Не знаю, как они вышли из неловкого положения, но с той далёкой поры эти симпатичные изделия из японского фарфора украшают наш сервант.
В то золотое время безмятежного детства у меня было много друзей. Но особенно близким был, пожалуй, Лёшка Русин. Он жил на седьмом этаже в нашем подъезде. Его мама – Зоя Михайловна − была ближайшей подругой моей мамы. Сохранилась даже старая фотография, на которой запечатлены две молодые интересные женщины с детскими колясками, гуляющие во дворе. В одной коляске лежал Лёшка, в другой – я. А женщины, понятно, были нашими мамами.

И внешне и по характеру они были очень разными. Моя мама была выше ростом, брюнеткой, по своей натуре скромная и застенчивая. Зоя Михайловна была полной противоположностью – ярко крашеная блондинка, невысокого роста, на которую трудно было не обратить внимания. Тем более что она всячески старалась его привлечь. Она любила ездить на велосипеде или ходила с теннисной ракеткой, что было в то время довольно необычно.
Зоя Михайловна растила Лёшку одна, поскольку её мужа Григория — сотрудника Внешторга − арестовали как врага народа. На этом основании к ним в двухкомнатную квартиру подселили ещё одну семью. В дальнейшем я видно ещё не раз вернусь в квартиру 33, где жил Лёшка с мамой, а пока временно расстанусь с ними.
Здесь важно отметить одно существенное обстоятельство: наши мамы почем-то решили, что их мальчики обязательно должны учить иностранный язык помимо школьной программы. Теперь это уже останется неразгаданной тайной, как в нашем доме появилась молодая, очень симпатичная девушка по имени Фрида. Она была немкой из Поволжья, но приехала из…Японии, где работала воспитательницей в резиденции советского посла К.К.Юренева. Не знаю, почему сын железнодорожного сторожа, убеждённый большевик, подпольщик и революционер, активный участник Октябрьской революции, командир Красной армии в Гражданскую войну, направленный партией на дипломатическую работу и занимавший посты послов в восьми (!) странах, привёз с собой в Токио немецкую бонну. Но факт остаётся фактом: Фрида на протяжении нескольких лет, вплоть до перевода Константина Константиновича послом в гитлеровский Берлин, участвовала в воспитании его детей.
А вернувшись в Москву, она взялась за нас с Лёшкой. У меня не сохранилось в памяти, рассказывала ли она нам о Японии, об этой загадочной для нас стране и её обычаях. Занимались мы чаще всего сидя на скамейке на Гоголевском бульваре. По очереди читали разные книжки на немецком языке, осваивали плюсквамперфект и готический шрифт. Не помню, как долго шли наши занятия, но однажды Фрида сказала, что вынуждена прекратить их. На прощание она подарила нам с Лёшкой по японской пластинке. Мне очень хотелось поскорее её послушать. Но когда я поставил её на старенький патефон, сразу понял, что вряд ли смогу дослушать её до конца. Как и явствовало из этикетки, на ней были записаны народные мелодии, исполняемые на кото и сямисене. Ничего более заунывного и тягучего я доселе не слышал. Так в нашем доме появился ещё один сувенир из Японии, который сразу же занял своё место на антресолях, пока окончательно не пропал при очередном переезде.
Об этой пластинке я вспомнил спустя много-много лет, когда, сидя на татами, слушал в токийском ресторане похожие мелодии в исполнении гейши. Не буду лукавить – в той обстановке эти старинные инструменты звучали совсем иначе.
А тогда в Большом Афанасьевском переулке ничто не располагало к погружению в японскую музыку.
Автор: Михаил Ефимов
(Продолжение следует….)